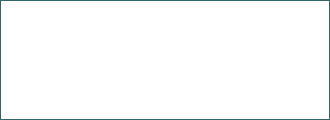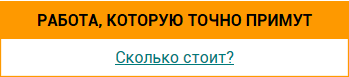Л.Н. Толстой и У.М. Теккерей: проблема жанровых поисков
Анализ творческого диалога У.М. Теккерея и Л.Н. Толстого, основанного на общем стремлении к модификации жанра романа и созданию его особой стилистической структуры. Модель семейного романа в творчестве писателей. Тип повествования в произведениях.
| Рубрика | Литература |
| Вид | диссертация |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 19.04.2021 |
| Размер файла | 471,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Столь же легко выявляется в «Векфилдском священнике» и другой признак жанра семейного романа - высшая ценность в нем «домашнего» идеала: Голдсмит сам утверждает его уже первыми словами произведения, в которых Примроз признается: «Всю жизнь я придерживался того мнения, что честный человек, вступивший в брак и воспитавший многочисленное семейство, приносит в тысячу раз больше пользы, чем тот, кто, пожелав остаться холостым, только и знает, что болтать о благе человечества». При этом идеальную семью здесь не нужно создавать, и от героев не требуется рефлексии по поводу того, какой она должна быть, -- такая семья уже изначально существует в «Векфилдском священнике»: Примроз, его жена и шестеро детей.
Образ жизни этого идеального союза полностью соответствует теоретическим положениям М.М. Бахтина об идиллическом хронотопе, который выражается в «органической прикрепленности, приращенности жизни и ее событий к месту - к родной стране,...родному дому» **. Примрозы живут в собственном доме на лоне природы, и к началу повествования в их сознании не существует ничего, кроме этого маленького мирка: «Мы гуляли по окрестностям или находили себе занятие дома,...ни каких переменах не помышляли, тягостных забот не ведали, и все наши приключения совершались подле камина, а путешествия ограничивались переселением из летних спален в зимние и из зимних - в летние» (важен акцент и на цикличности такой идиллической жизни). Нетрудно увидеть в начале романа и другой признак идиллии, выделенный М.М. Бахтиным, -- «строгую ограниченность ее основными немногочисленными реальностями жизни», среди которых «любовь, рождение, смерть, брак, труд, еда и питье, возрасты» Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 374..
В отличие от романа Голдсмита, ни в одном из произведений Теккерея и Толстого семья не дана в качестве главного героя произведения. Это очевидно в романах Теккерея «Ярмарка тщеславия» и «История Пенденниса», где явно доминируют фигуры Ребекки, Эмилии, Артура Пенденниса. В «Ньюкомах», несмотря на говорящий подзаголовок «Жизнеописание одной весьма почтенной семьи», также не существует единого семейного пространства: центральные герои романа -- Клайв, Этель и полковник Ньюком, напротив, выглядят самыми одинокими, «бессемейными» героями, несмотря на взаимное их тяготение. Среди произведений Толстого только два в определенной мере могут претендовать на наличие «коллективного героя» -- это роман «Семейное счастие» и повесть «Крейцерова срната». Однако и в них очевиден авторский акцент на внутреннем развитии, драматизме переживаний главного героя (или героини, как в «Семейном счастии»).
При всем том нельзя отрицать, что семейные образования играют принципиально важную роль в произведениях Теккерея и Толстого. Романное пространство у обоих писателей представляет собой своеобразный «полисемейный» мир, где ни один герой не может гармонично существовать вне семьи, причем семьи настоящей, совмещающей в себе все традиции патриархальной национальной жизни. Теккерей и Толстой своеобразно «расширяют» семейный принцип построения семейного романа, заменяя его принципом семейно-родовым - С.Э. Нуралова называет его «гнездовым». Так, в романе «Война и мир» образы четко группируются в зависимости от своей фамильной, родовой принадлежности - к семье Ростовых, Болконских, Курагиных, Бергов. В «Ярмарке тщеславия» только одна героиня -- Ребекка Шарп - не имеет семьи, но характерно, что все ее попытки добиться положения в обществе фактически сводятся к стремлению войти в одно из описываемых семейств - Седли, Кроули, Осборнов.
Семья в романах Толстого и Теккерея становится мерилом всех ценностей, точкой равновесия, истоком и итогом духовных поисков человека. Каждый из героев Теккерея и Толстого как на начальном, так и на финальном этапе своего пути стоит в определенном отношении к семейным, родовым идеалам. Ни один из героев принципиально не может находиться вне «семейной» системы координат, даже пытаясь ее игнорировать. При этом в романах Теккерея и Толстого истинная, цельная семья очень редко имеет место уже к моменту начала повествования, как в классическом семейном романе. Каждого из ключевых героев в начале произведений мы видим в одной из трех ситуаций, ни одна из которых не является статичной, незыблемой:
1. Герой находится внутри пространства родительской семьи, что само по себе предполагает его выход за пределы изначальных семейных ценностей и их осмысление или переосмысление (Николенька Болконский, Наташа Ростова, Этель Ньюком, Артур Пенденнис).
2. Герой не имеет семьи, потеряв родителей или уйдя из родительского дома до начала повествования, либо перед нами уже взрослый герой, который пытается создать собственную семью (Пьер Безухов, Константин Левин, Ребекка Шарп, лорд Кью).
3. Герой уже создал собственную семью, но она является неистинной, ошибочной, чуждой подлинным патриархальным идеалам, что предполагает попытки героя изменить ситуацию, чаще всего -- создать новую семью или отказаться от приоритета семейных ценностей (Андрей Болконский, Анна Каренина, отчасти -- Клара Пуллярд).
Многие герои за время повествования успевают пройти все три стадии, примером чему может служить судьба Клайва Ньюкома (родительская семья -- поиск семьи -- неистинная семья и ее разрушение).
Тем не менее, изначальное пространство романов Теккерея и Толстого почти всегда характеризуется наличием определенного равновесия, гармонии (хотя бы внешней) на сюжетном уровне и состоянием эпической полноты на уровне поэтики. Как ни парадоксально, именно традиции семейного романа во многом предопределяют эпичность произведений писателей: художественное пространство, представляющее собой совокупность взаимосвязанных семейных «гнезд», позволяет Теккерею и Толстому показать всю полноту и многообразие национальной жизни. Вокруг семей выстраивается и география романов: у Теккерея - это Лондон с домами Осборнов, Седли, провинция с поместьями Фэрокс, Клеверинг, Кроули. Точно так же и у Толстого городские дома и деревенские усадьбы образуют пестрый национальный мир.
Гармоничное состояние мира в начале произведений Теккерея и Толстого определяют, прежде всего, герои первой группы -- то есть те, кто еще не успел оторваться от родительского «гнезда», чья семья представляет собой идеал любви, дружества, взаимопонимания, основанный на крепких патриархальных традициях. Таково семейство Ростовых в начале «Войны и мира», где общая гармония показана, прежде всего, через образ Наташи, поэзию ее детства и юности. Как и в романе Голдсмита, здесь очевидно авторское стремление к поэтизации быта -- эту особенность поэтики, по мнению А.Г. Татьяниной, впервые ввел в литературу именно семейный роман, «заменяя им [поэтизированным бытом] другие идеалы предшествующих эпох». В романе Толстого ни одна семья не описывается с таким вниманием к мелочам: куклы Наташи, мороженое, песни детей, халат графа и другие бытовые подробности становятся неотъемлемой частью полнокровной, «земной», укорененной жизни Ростовых. Не случайно знаковыми для романа становятся традиционные «внутрисемейные» события жизни Ростовых: праздники, охота, посещение церкви.
Такую же семейную идиллию, упоение юной героини жизнью показывает и Теккерей в начале «Ярмарки тщеславия», описывая возвращение домой Эмилии: «...Когда они наконец доехали до дому и мисс Эмилия Седли выпорхнула из кареты... другой такой счастливой и хорошенькой девушки нельзя было найти во всем огромном Лондоне. Таково было мнение и негра, и кучера, и с этим соглашались и родители Эмилии, и вся без исключения домашняя челядь, которая высыпала в прихожую..., улыбаясь своей молодой госпоже и поздравляя ее с приездом» [4, 24]. Описывая атмосферу радости и семейного уюта, Теккерей уже в начале повествования подчеркивает, что лучшие качества Эмилии -- доброта, искренность, преданность, глубокое материнское чувство и искренняя вера - были воспитаны именно в семье.
Однако уже в этом безмятежном существовании счастливых семей у Теккерея и Толстого намечаются признаки грядущего кризиса патриархальной идиллии. В «Войне и мире» наиболее явственно предвещает этот кризис описание семьи Болконских. На ее примере Толстой показывает, как патриархальность семейного быта и нравов становится косной, тяжелой привычкой, традицией без души, которая не объединяет, а только разобщает членов семейства. В образе старого князя Болконского Толстой изображает представителя ушедшей эпохи, века «строительства русской государственности»137. Он носитель подлинной патриархальности, воспитанной временем и жизнью, и поэтому распадение внутренних, душевных связей между членами его семьи выглядит как сложный психологический феномен, который трудно объяснить до конца.
Похожий уклад жизни до «Войны и мира» уже был изображен Толстым в «Семейном счастии»: это атмосфера, которая царит в доме Татьяны Семеновны. Здесь позитивная оценка степенного старинного течения жизни в усадьбе («все было опрятно, прочно, аккуратно и внушало уважение» (5, 106)) постоянно смешивается с осознанием молодыми героями своей чуждости этому порядку. «Мы жили с ним точно чужие в этом большом старом доме, в котором над всем стоял строгий дух старины и Татьяны Семеновны. Не только она, но люди, старые девушки, мебель, картины внушали мне уважение, некоторый страх и сознание того, что мы с ним здесь немножко не на своем месте» (5, 109), - говорит Маша. Эта «строгая» старина домашнего уклада нисколько не упрочивает семейный союз героев, хотя тайное нарушение обычаев и «оживляло любовь» (5, 109). Толстой показывает, что столь необходимая патриархальность не становится здесь органичной новому молодому поколению, и в этом, возможно, первоисточник многих ошибок героев.
В «Ярмарке тщеславия» Теккерея также обнаруживается семейство, образ жизни которого очень схож с домашним укладом в семье Болконских, -- это Осборны. Однако образ мистера Осборна гораздо более однозначен по сравнению с образом князя Болконского: это всего лишь беспринципный буржуазный делец с претензиями на аристократичность. Осборн-старший не закладывает никаких патриархальных традиций в своей семье - не только потому, что ему неоткуда их взять, но и потому, что он в них не нуждается. Следствием этого и становится легкомыслие и самолюбивое тщеславие его детей. К осознанию истинных семейных ценностей мистер Осборн приходит лишь к концу произведения, да и то не до конца: он прощает сына, но гордыня и снобизм так и не позволяют ему при жизни примириться с Эмилией.
Тем не менее, в описании семей Осборнов и Болконских присутствуют весьма характерные параллели, которые трудно объяснить одним лишь типологическим схождением. Во-первых, это характеристика писателями самих образов Осборна и князя Болконского: и Теккерей, и Толстой показывают их разрыв с поколением детей, невозможность передать традиционные ценности по наследству через такую деталь, как книги. У Теккерея мистер Осборн «годами... не снимал с полок ни одного из... томов, но никто из членов семейства никогда ни под каким видом не посмел бы до них дотронуться» [4, 269]. У князя Болконского «кабинет был наполнен вещами, очевидно беспрестанно употребляемыми. Большой стол, на котором лежали книги и планы, высокие стеклянные шкафы, библиотеки с ключами в дверцах...» (9, 107). Однако роль книг обесценивается и здесь: хотя князь Болконский держит их дома не из тщеславия, как Осборн-старший, уже в самом начале романа Толстой показывает его неудачные попытки передать знания дочери.
Во-вторых, о семейном кризисе одинаково свидетельствуют неудачные браки сыновей мистера Осборна и князя Болконского. История сватовства Андрея Болконского к Наташе Ростовой почти полностью соответствует ситуации женитьбы Джорджа Осборна: не только отцы, но сестры обоих героев отказываются принять их избранниц. Безысходные поиски себя князем Андреем, как и легкомысленное прожигание жизни Джорджем Осборном, ранняя гибель обоих героев -- вся трагичность их судеб еще раз подчеркивает мысль Теккерея и Толстого о том, что лишенная душевности и теплоты патриархальность (а тем более ее отсутствие, как в семье Осборнов) не способствует передаче семейных ценностей следующим поколениям, а значит, не позволит молодым героям обрести семейное счастье. Знаковым моментом можно считать то, что и Андрей Болконский, и Джордж Осборн придут к пониманию семейных ценностей только накануне смерти.
Но наиболее интересно эту мысль писателей подтверждают образы Джейн, старшей дочери мистера Осборна, и княжны Марьи. Здесь и Теккерей, и Толстой показывают ту унизительную несвободу, которая выпадает героиням как извращенная форма отцовской любви. Дети Осборна, как и Болконского, воспитывались без матери, и после ухода из семьи других детей оба отца занимают одинаковую позицию. «В сущности, Осборн не постоял бы за тем, чтобы жениться даже на женщине самого низкого звания, и потом отчаянно изводил бы ее, но, как на грех, ни одной такой подходящей особы ему не подвернулось, и потому он тиранил дома свою незамужнюю дочь» [4, 490].
«Отец поклялся, что она не получит ни шиллинга, если выйдет замуж без его согласия. А так как ему была необходима женщина для ведения хозяйства, он вовсе не желал, чтобы она выходила замуж... Пока жив был ее папа, она... должна была довольствоваться положением старой девы» [4, 496]. Ту же тиранию мы видим и в отношении княжны Марьи. H.H. Страхов сразу после выхода первых томов романа «Война и мир» писал: «С изумительным мастерством автор изобразил нам одну из самых страшных человеческих слабостей, - не одолимых ни умом, ни волей... В сущности, старик беспредельно любит свою дочь... но эта любовь у него извратилась в желание наносить боль себе и любимому существу...».
Впрочем, героини, как показывают и Теккерей, и Толстой, оказываются способны преодолеть семейный кризис, в отличие от своих братьев. Княжне Марье в этом помогает искренняя вера, а также материнские чувства: в финале именно она своей духовной силой и чуткостью скрепляет их с Николаем Ростовым семейный союз. Джейн Осборн вообще проходит настоящую духовную эволюцию: если в начале повествования это чопорная себялюбивая светская дама, то к финалу она в корне меняется. Память о брате, любовь к маленькому племяннику, страдания, причиняемые отцом и сестрой, делают ее душевно отзывчивой, мягкой. Она даже сближается с Эмилией, хотя и не настолько, чтобы стать ее другом.
И все-таки гораздо более существенным оказывается для Теккерея и Толстого кризис, который зреет в глубине наиболее цельных, истинных семей -- Ростовых и Седли. Весьма симптоматично, что именно эти семьи, великодушные, щедрые, хлебосольные, постигает одинаковый крах -- разорение. Однако не на одном лишь внешнем кризисе делают акцент оба автора. И Теккерей, и Толстой показывают, как внутри семей Ростовых и Седли зреет моральный кризис, кризис патриархальных ценностей, которые кажутся столь органичными для них. Внутренняя предопределенность грядущего несчастья ощущается в характерах почти всех членов той и другой семьи. Душевная черствость, удивительно совмещенная с истинными материнскими чувствами, одинаково видна в отношении графини Ростовой к воспитаннице Соне и в раздражении миссис Седли против простой гувернантки Ребекки Шарп, осмелившейся посягнуть на ее сына Джоза. Отцы семейства - мистер Седли и граф Ростов -- наделены писателями другим пороком -- безволием, легкомыслием, граничащим со страхом перед реальностью. Так, после предпринятой Наташей попытки побега граф Ростов старается не замечать всеобщего волнения: «Граф... ясно видел, что в его отсутствие должно было что-нибудь случиться; но...он так любил свое веселое спокойствие, что... избегал расспросов и все старался уверить себя, что ничего особенного не было» (10, 361). Те же легкомыслие и безответственность передаются и сыновьям героев: Николай способствует разорению семьи крупным проигрышем, а глупый и тщеславный Джоз Седли оказывается едва ли не самым далеким от семейных ценностей героем, панически боясь променять свой счастливый эгоизм на брачные узы.
Но наиболее зримым симптомом кризиса патриархального уклада в семействе Ростовых является образ Веры, который олицетворяет собой запрет, косность, безукоризненную и бездуховную правильность жизни, то есть полную противоположность традициям семьи Ростовых. Семья Бергов, кстати, также имеет аналог в романе Теккерея -- это семья Марии Осборн и Фредерика Буллока. Для обоих семейств главным становится внешнее приличие, тщательность, скрупулезность в достижении всех благ, которых можно получить в обществе, поразительная «овнешненность» жизни. Особо подчеркивают оба писателя снобизм по отношению к родным, возникший в Марии Осборн и Вере Ростовой после замужества: Мария «чувствовала, что и отец с сестрою теперь не подходящая для нее компания» [4, 492], Вера постоянно подчеркивает свое моральное превосходство над младшей сестрой.
И тем симптоматичнее, что катализатором и одновременно жертвой глобального кризиса семьи становится именно Наташа, самый органичный и цельный из ее членов. Кульминацией кризиса патриархальности (и вообще семейного романа в редакции Толстого) становится ее попытка побега с Анатолем Курагиным -- ситуация, которую сам Толстой назвал «узлом» романа (61, 180).
Мотив побега героини появляется в творчестве Толстого не единожды. Намек на него есть уже в «Семейном счастии», бегство из семьи станет решающим для сюжета романа «Анна Каренина». Представляется, что появление мотива побега в целом ряде произведений писателя не случайно и что именно побег как сюжетный и структурный элемент приобретает ключевое значение для жанра семейного романа в авторской редакции Толстого.
3. Мотив побега как ключевой для сюжета и поэтики семейного романа JI.H. Толстого и У.М. Теккерея
Как сюжетный элемент побег героини имеет очень давнюю историю. Впервые, как следует из работ М.М. Бахтина, он обнаруживается еще в античной литературе, а точнее, в «греческом», или «софистическом» Бахтин M.M. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 237., романе II-VI веков н.э. Сюжетная схема таких романов почти всегда одинакова: действующими лицами становятся «юноша и девушка брачного возраста», которые «вспыхивают друг к другу внезапной и мгновенной страстью», однако их счастливому соединению мешают разные препятствия. Одним из таких препятствий является «несогласие родителей» Там же. С. 238., нередко приводящее к бегству героев из дома. В таком контексте побег является частым структурным элементом авантюрного романа в различных его формах. При этом тайный брак молодых героев несет одинаковую смысловую нагрузку: позиция родителей представляется ошибкой, временным заблуждением, а любовь героев - категорией истинной, положительной, единственным путем к счастью, благополучию и созданию крепкого семейного единства.
Совершенно иное значение приобретает побег влюбленной героини в семейном романе. Решение героини выйти замуж тайно, против воли родителей становится здесь не просто ошибочным, но трагическим, фатальным для судьбы не только самой героини, но и всей ее семьи. Напротив, именно позиция родителей или других близких людей (в «Войне и мире» это Соня и Марья Дмитриевна) в отношении избранника героини является незыблемо верной, основанной на вековой родовой мудрости, на традициях жизни многих поколений. Примером может служить бегство Лидии в романе Дж. Остен «Гордость и предубеждение», комический побег мисс Уордль в «Посмертных записках Пиквикского клуба» Ч. Диккенса, отчасти -- судьбы героев в «Повестях Белкина» A.C. Пушкина.
Однако в традиционном семейном романе побег как структурный и сюжетообразующий элемент играет менее значительную роль, чем в романах Толстого. Главное отличие заключается в том, что фактически ни в одном из перечисленных произведений героиня, бегущая из семьи, не является ключевым образом, и ни один из авторов не ставит себе задачу показать ее духовную эволюцию. Побег осуждается в патриархальном мире семейного романа - но он вводится в повествование скорее как негативный.пример, подчеркивающий разумность приверженности вековым семейным традициям. Побег нарушает идиллическое существование семьи-героя романа, но в конечном счете не меняет его сути, не ведет к обновлению в случае как позитивного, так и негативного исхода.
Наиболее ярким тому примером является роман Джейн Остен «Гордость и предубеждение»: ни юная Лидия, совершившая глупый и необдуманный поступок, ни другие герои практически не эволюционируют после случившегося кризиса - даже благой порыв разгневанного отца семейства к большей строгости к дочерям выглядит как сиюминутное намерение. Уклад жизни семьи Беннетов остается тем же, а союз Лидии и Уикхема служит лишь назидательным примером, оттеняющим разумный и счастливый выбор старших дочерей. В «Станционном смотрителе» Пушкина мы вообще ничего не узнаем о внутреннем мире Дуни, ее осмыслении своего поступка: побег девушки нужен автору лишь для раскрытия образа Самсона Вырина.
Для Толстого же принципиально важным становится именно внутренний мир как самой героини, решающейся на слом традиционного семейного уклада жизни, так и окружающих ее героев. И с этой точки зрения традиции семейного романа оказываются органичны и для психологического метода Толстого: утверждая семейный идеал, он проводит своих лучших героев через полосу заблуждения, максимально приближая их к пороку и предательству самих себя, а затем заставляет понять то, в чем изначально убежден сам. Характерным мотивом всех главных романов Толстого является то, что герои не обретают семейное счастье и семейные ценности легко, а получают их, лишь пережив ряд кризисов, осмыслив жизнь и повзрослев духовно.
Эта же тенденция к «психологизации» семейного романа намечается и в творчестве Теккерея. Характерно, что мотив побега также пройдет через все его главные романы. В «Ярмарке тщеславия» можно обнаружить целых три побега, хотя парадоксальным образом совершают их не героини, а герои: один раз в этой ситуации окажется Родон Кроули, тайно обвенчавшийся с Ребеккой, дважды -- Джордж Осборн, сначала вопреки воле отца женившийся на Эмилии, а затем чуть было не сбежавший от нее с Ребеккой. Несмотря на высокую степень авантюрного начала, смысловое наполнение этих побегов также органично для традиции семейного романа: первые два не приводят к созданию счастливых семей и справедливо осуждаются родными героев, третий побег, то есть его попытка, является однозначным предательством семейных ценностей, живым воплощением которых является в романе образ Эмилии.
Однако все три ситуации побега у Теккерея уже не выполняют только сюжетообразующую функцию: фактически каждый из них, сам по себе являясь ошибочным шагом, приводит героев к осознанию истинных семейных ценностей. Такая эволюция происходит с Родоном Кроули: любовь к маленькому сыну в корне преображает этого грубого и глуповатого любителя азартных игр, «наделенного сильными желаниями и карликовым мозгом» [4, 182]. Именно отцовские чувства помогают ему увидеть истинное лицо Ребекки и обрести истинную, хотя и не полноценную, семью в самостоятельном воспитании маленького Родона. Джордж Осборн, также изначально не принадлежавший к пространству истинных семейных ценностей, не получает их и в браке с Эмилией: Теккерей показывает, что своеволие Осборна было обусловлено не искренними чувствами к героине, а гордыней, тщеславием и желанием воспротивиться воле отца. Однако намерение повторно бежать из семьи неожиданно приводит Осборна к раскаянию и осознанию того, что именно с Эмилией он мог бы найти подлинное семейное счастье.
Ситуация последнего побега, описываемого Теккереем, наиболее близка к смысловому наполнению мотива побега у Толстого. Здесь принципиально важна не только духовная эволюция героя, но и то, что, решив оставить Эмилию ради Ребекки, Осборн делает для себя окончательный выбор между семейными и светскими идеалами в пользу последних. Возможно, именно это и обусловливает его последующую гибель, аналогичную кардинальному изменению авторского отношения к Ребекке после того, как она последовательно пренебрегает всеми семейными ценностями, предавая сначала сына, затем мужа. Именно Теккерей, а вслед за ним и Толстой, актуализируют в своих произведениях заложенную в потенции жанра семейного романа антитезу «дом - светское общество». Эта антитеза вырастает у обоих писателей в целую систему этических оппозиций, раскрывающих содержание семейного идеала: город - деревня, любовь - нелюбовь к детям или их отсутствие, вера -- безверие.
Хронотоп света противостоит «домашнему» топосу как пространство лжи, безнравственности и двуличия: в «Ярмарке тщеславия» он иронически охарактеризован Теккереем как «высоконравственное место, которое, возможно, ничего не имеет против порока, но не терпит, чтобы порок называли его настоящим именем» [4, 737]. Отделение или близость к светскому обществу всегда является у Теккерея и Толстого ключевой характеристикой каждого из образов. Свет -- место, где царствуют такие герои, как Ребекка Шарп, лорд Стайн, сестры Осборн, семейство Курагиных, Анна Шерер. Напротив, неловко чувствует себя на светских балах Клайв Ньюком, не любят в свете Эмилию Седли. С оттенком иронии Теккерей пишет об Уильяме Доббине: «...К раутам и вечерним приемам он питал отвращение, какое, увы, наблюдается у многих разумных людей...» [4, 258].
Мотив материнской и отцовской любви также является устойчивым в творчестве Теккерея и Толстого. Лучшие героини обоих писателей показаны, прежде всего, как заботливые матери, окруженные множеством детей. Напротив, характерной чертой «светских» героев как у Толстого, так и у Теккерея, является отсутствие детей и нежелание их иметь либо равнодушное и даже презрительное отношение к собственным детям. У Толстого наиболее яркий пример тому -- образ Элен: «...Она засмеялась презрительно и сказала, что не дура, чтобы желать иметь детей...» (10, 29). У Теккерея точно так же полностью лишена материнского чувства Ребекка; безжалостно относится к детям лорд Стайн («Ярмарка тщеславия») и его сестра леди Кью в «Ньюкомах».
Другой мотив и одновременно одна из высших ценностей в этической системе Толстого и Теккерея -- это религия. В «Ярмарке тщеславия» религиозная линия наиболее четко прослеживается в отношении Эмилии: на протяжении всего повествования автор неоднократно упоминает о ее молитвах. В «Войне и мире» вера - важнейшая черта образов княжны Марьи, Наташи Ростовой. Важнейшее место в структуре семейного идеала обоих писателей занимает и топос деревни, провинции как пространства, где искони сохраняются патриархальные традиции. В «Ярмарке тщеславия» Теккерей прямо декларирует свою установку в начале главы «Счастливая Аркадия», где знакомит читателей с семейством Кроули, «честными обитателями замка (чья простота и милая сельская чистота нравов, несомненно, свидетельствуют о преимуществе сельской жизни перед городской)» [4, 110].
Каждый из героев Теккерея и Толстого при всей сложности своего внутреннего мира находится в рамках этой системы этических оппозиций. Упомянутое внутреннее движение центральных персонажей, их духовные поиски, таким образом, можно представить и как выход из первоначального пространства семейных ценностей в мир мнимых светских идеалов, а затем возвращение назад, к дому, к патриархальным устоям жизни. Таков путь Маши из «Семейного счастия», Кити Щербацкой, Наташи Ростовой, Этель Ньюком, Артура Пенденниса. Ряд героев, как уже было показано, начинает это движение из своеобразного «минус-пространства»: у Пьера Безухова, например, семьи изначально не было, а Андрей Болконский начинает свой поиск семейных идеалов с семьи ложной -- однако оба они проходят испытание мнимыми идеалами до того, как познают истинные.
В этом смысле побег становится ключевым моментом в романе Толстого и кульминацией кризиса патриархальных ценностей именно в силу того, что означает уход в пространство светских идеалов наиболее органичной, нравственно чистой героини. Наиболее близок этой ситуации в «Войне и мире» опять же сюжет романа «Векфилдский священник». Именно Голдсмит одним из первых открыто противопоставил тлетворному влиянию светского общества патриархальные устои семьи и ввел мотив искушения и соблазнения мнимыми ценностями света юной героини. Побег дочери священника Примроза Оливии с помещиком Торнхиллом, который оказывается многоженцем и распутником, становится своеобразным «водоразделом» повествования, точкой кризиса так же, как и увлечение Наташи Анатолем в «Войне и мире» Толстого.
На чуждость героя-соблазнителя патриархальным ценностям семейства, взрастившего и Оливию, и Наташу Ростову, сразу указывает изменение хронотопа. В «Векфилдском священнике» Примроз рассказывает, что семья на новом месте стала регулярно собираться «неподалеку от дома», где его «предшественник поставил скамью»142, - именно там герои впервые встречают Торнхилла. Скамья становится «промежуточным» топосом, находящимся между домом и большим миром и предвещающим изменение органичного «домашнего» существования героев. Такой же «промежуточный» топос встречается и в «Семейном счастии» Толстого, где большинство важных встреч и разговоров Маши с Сергеем Михайловичем происходит не в доме, а на террасе.
Важной деталью приближающегося кризиса в Векфилдском семействе становится тот факт, что Торнхилл очень редко заходит в дом к героям, а когда семья заказывает фамильный портрет, и Торнхилл присоединяется к композиции, оказывается, что готовая картина слишком велика и не проходит в дверь. Портрет остается на летней кухне - также в топосе, символизирующем опасную непрочность положения семьи Примрозов, пытающейся соединить ценности семейного и" светского мира. Стоит отметить как черту приближающегося кризиса и самоустранение священника от увлечения жены и дочерей светскими идеалами, которое очень схоже с позицией графа Ростова: «я молчал», «я был вынужден дать согласие», «я не одобрял, но и не запрещал».
В «Войне и мире» Анатоль Курагин вообще не появляется в доме Наташи. Они с Наташей все время встречаются в пространстве, принадлежащем ему, то есть пространстве резко «анти-семейном». Это опера, где Наташе все кажется «вычурно-фальшиво и ненатурально» (10, 326), и дом Элен Безуховой.
ч
Обе героини, как показывают Голдсмит и Толстой, имеют оправдание своему поступку. Для Оливии это осознанное самопожертвование ради счастья любимого человека. «Своей победой он обязан тому, что я больше думала о его счастье, нежели о своем» Голдсмит О. Векфильдский священник. М., 1959. С. 149., -- признается Оливия отцу. Толстой делает акцент на ослеплении Наташи той безграничной свободой, которую несет в себе Анатоль, на внезапной страсти, с которой невозможно совладать. «Как только я увидала его, я почувствовала, что он мой властелин, а я раба его и что я не могу не любить его» (10, 347), - объясняет она Соне. Настоящие причины обоих побегов гораздо глубже: обе героини действительно становятся жертвами кризиса, поразившего их семьи. Толстой показывает, по словам С.Г. Бочарова, что «нравственная высота и человечность патриархальных семейств недостаточна в новых, гораздо более сложных условиях жизни «в миру». Симптомом этого и является «та смута, которую влечет с собой явление в мире этих семейств красавца Анатоля... Он для них (Наташи и Марьи) соединяется с теми потребностями свободы, которые уже не вмещаются в рамки патриархальной морали...» Бочаров С.Г. Роман Толстого «Война и мир». М., 1987. С. 96..
Разрушительная сила поступка героинь подчеркивает, что их побег -- лишь одна из возможных случайностей, которые рано или поздно разрушили бы мирное существование их семей.. Особенно четко прослеживается это в «Векфилдском священнике»: в результате чрезмерной доверчивости семьи, позволившей себе совершить подмену ценностей, последовательно рушится все, что составляет суть их идиллического существования. Трагедия только начинается с побега Оливии, вслед за которым дом священника лишается хозяина: Примроз почти буквально становится отшельником и странником, отправившись на поиски дочери: «Сын мой, дай мне мою Библию и посох!» Голдсмит О. Векфильдский священник. М., 1959. С. 113.. Следующим несчастьем становится пожар, уничтожающий дом - материальное средоточие нравственных идеалов в любой семейной идиллии. Затем Примроз оказывается в тюрьме, а его семья - в съемной комнате. Нарушены, таким образом, все условия идиллического существования: любовь и брак Оливии оборачиваются обманом и бесчестием, укорененная семейная жизнь -- бесприютным скитанием, дом -- временным пристанищем.
Однако фактически в «Войне и мире» последствия неудавшегося побега Наташи еще более катастрофичны - не случайно они непосредственно предшествуют вторжению французов в Россию. Война, как и увлечение Наташи Анатолем, становится кульминацией кризиса патриархальных отношений, поразившего все российские семьи того времени, и одновременно наказанием за оторванность людей от семьи, рода, своих исконных корней. Толстой, таким образом, органично соединяет с традициями семейного романа и свою историографическую концепцию: «большая» национальная история также функционирует в романах согласно семейному принципу. Эта же тенденция намечается и в «Ярмарке тщеславия» Теккерея: динамика, кризисы, исторические события в национальной жизни именно через историю и кризисы семей обретают у обоих писателей такую зримость и художественную силу.
В этой же плоскости обнаруживается и первопричина новаторского соединения судьбы «маленького человека» с течением больших исторических событий в «Войне и мире» и «Ярмарке тщеславия». В жизни одной семьи и всей страны происходят одинаковые процессы, соблазнение Наташи Анатолем аналогично соблазнению всей нации идеалами наполеонизма, стремлению жить по европейскому эталону. Точно так же и соблазнение Осборна Ребеккой не случайно предшествует трагедии войны: и то, и другое -- горькое свидетельство и одновременно итог предательства англичанами своих патриархальных традиций в угоду ценностям «ярмарки тщеславия».
Однако в той же семейной основе национального мира обнаруживают оба писателя и нравственный потенциал, который способен противостоять глобальной угрозе разрушения нации. Вот почему Ростовы всей семьей выезжают из Москвы и ухаживают за ранеными, вот почему накануне прихода французов происходит прощальное примирение княжны Марьи с отцом. В крепком семейном единстве, в ценностях, воспитуемых семьей, -- основа народного единения, которое показывает в «Войне и мире» Толстой и которое уже намечается в «Ярмарке тщеславия» Теккерея. Не случайно у Теккерея сражение под Ватерлоо показано исключительно через душевное состояние членов семей сражающихся: «Ах! Много сердец тревожно билось тогда по всей Англии! И во многих домах возносились к небу слезные материнские молитвы!» [4, 277].
Так же, как и война, поступок Наташи имеет не только разрушительную силу: и то, и другое становится своеобразным катарсисом, очищением, пройдя через которое, и семья Ростовых, и вся нация сможет восстановить утраченные патриархальные идеалы. Не случайно только после случившегося у Наташи начинается глубокое и личностное приятие веры: «...Новое для Наташи чувство смирения перед великим, непостижимым, охватывало ее, когда она в этот непривычный час утра, глядя на черный лик Божией матери, освещенный и свечами, горевшими перед ним, и светом утра, падавшим из окна, слушала звуки службы, за которыми она старалась следить, понимая их...» (11, 71). И не случайно именно она в первые дни войны в церкви слышит ключевые для романа слова: «Миром Господу помолимся» (11, 74).
То же духовное очищение после побега Оливии происходит и в семье Примрозов. Правда, здесь Голдсмит делает акцент не на фигуре Оливии, а на страданиях ее отца. Именно он в трудный час скрепляет семью как духовное целое своей душевной стойкостью и христианским мужеством. Именно он своеобразно «меняет» распавшийся идиллический хронотоп на существование в вечном пространстве христианских ценностей. Он буквально превращает тюремную камеру в храм, а все события начинает оценивать с точки зрения не бытового, как раньше, а бытийного смысла. «Желая избежать кратковременных невзгод, неужели захочу я разбить сердце моей дочери, обрекая ее на бессчетные терзания?»146 -- говорит Примроз родным, подталкивающих его подчиниться власти Торнхилла. А в финале он предстает почти евангельским мучеником, поднимаясь на недостижимую высоту над этим маленьким суетным мирком, в котором гармония так непрочна.
Очевидная динамика хронотопа после наступления роковых для героев событий и в «Векфилдском священнике», и в «Войне и мире» подчеркивает цикличность как один из ключевых принципов поэтики семейного романа. Только теперь это уже не природная цикличность семейной идиллии -- это цикличность бытийная, являющаяся, согласно концепции Толстого, законом человеческой и общенациональной жизни. Поэтому фактически Толстой в «Войне и мире» не дает ответа на традиционный для жанра семейного романа вопрос о возможности или невозможности существования счастливых семейств: самой структурой своих романов он показывает, что распадение семейной патриархальности -- явление вневременное, регулярно проявляющееся на определенном этапе истории -- как правило, сопровождающемся глобальными национальными потрясениями.
Если исторический кризис в «Войне и мире» начинается одновременно с кризисом семейных отношений, разладом даже внутри таких крепких патриархальных «гнезд», как семьи Ростовых и Болконских, то преодоление национального бедствия совпадает с созданием молодыми героями новых счастливых семейных союзов. Николай и Наташа Ростовы, Пьер и княжна Марья своего рода «реставрируют» пошатнувшиеся патриархальные основы бытия, восстанавливают все то, что было утрачено их родителями (и чуть было не потеряно ими самими): духовное родство между супругами, понимание между родителями и детьми, истинную веру, отказ от светских норм и приличий. Однако и эта воссозданная идиллия временна: об этом свидетельствует, в первую очередь, образ Николеньки Болконского с его «наполеоновскими» мечтами.
В финале «Векфилдского священника» Голдсмит также незаметными штрихами вновь дает понять, что окончательное восстановление идиллии после кризиса невозможно. На это указывает фраза, произнесенная Примрозом: «Отныне у меня одна-единственная забота: быть столь же благодарным в счастье, сколь смиренен я был в беде!»147. Страдания не забудутся: они раз и навсегда показали семье священника, что простодушие и доверчивость уже не могут быть опорой людей в мире, патриархально-идиллическая основа которого начинает рушиться. И хотя семейные ценности все же возобладают в «Векфилдском священнике» над искушениями светского мира, очевидна мысль автора о том, что эта идиллия уже никогда не будет простой данностью, за обретение семейного счастья и восстановление патриархальных идеалов в современном мире необходимо бороться. Эта идея также оказалась весьма продуктивной для семейного романа XIX века и, в частности, нашла отражение практически во всех романах Теккерея и Толстого.
Однако, несмотря на финал, знаменующий неустойчивость положения истинных патриархальных семей в мире, сама ситуация побега и следующий за ней кризис в обоих романах разрешаются благополучно. Беглянки возвращены, семейное счастье и национальное благополучие восстановлено, драматизм кульминации романов вновь сменяется эпическим равновесием. На последнем этапе семейного романа лучшие герои неизменно оказываются внутри гармоничного семейного образования, чаще всего сами его создавая либо восстанавливая разобщенное, негармоничное пространство уже существующей семьи (примером может служить финал «Семейного счастия»). Герои же, выбравшие анти-семейные ценности, либо гибнут в ходе повествования (Андрей Болконский, Элен Безухова, Джордж Осборн, Осборн-отец, Джоз Седли), либо находятся на краю гибели, если не физической, то моральной, и не вызывают у автора сочувствия (Ребекка Шарп). В любом случае, иного хронотопа, кроме пространства семьи, у героя в финале семейного романа нет.
Это восстановление семейных ценностей неизменно сопровождается у Теккерея и Толстого такими атрибутами, как забота о детях и жизнь в провинции. Доббин и Эмилия переселяются из Лондона в усадьбу в Хэмпшире, где воспитывают юного Джорджи и родившуюся дочь, леди Джейн Кроули становится опекуншей осиротевшего Родона, не выезжая из своего поместья. В кругу детей показаны в эпилоге «Войны и мира» все ключевые герои, Маша в финале «Семейного счастия» возвращается в деревню, где материнские чувства помогают ей обрести желанную гармонию.
Эти черты указывают на то, что не только «Векфилдский священник», но и «Война и мир», и «Ярмарка тщеславия» все-таки входят в традицию семейного романа, а не «анти-семейного», тенденция перехода к которому наблюдается в позднем творчестве Теккерея и Толстого. Весьма характерно, что симптомом изменения взглядов писателей на семью опять же становится ситуация побега - но на сей раз побега не молодой девушки под венец, а замужней женщины в поисках истинной любви и счастья. Считается, что первым трагизм этой ситуации в литературе описал Толстой в романе «Анна Каренина». Однако до него побег замужней героини из дома стал одним из наиболее значимых эпизодов романа У.М. Теккерея «Ньюкомы».
4. Нарастание пессимизма во взглядах Л.Н. Толстого и У.М. Теккерея на семью и традиции «анти-семейного» романа в их творчестве
Из всего творческого наследия Теккерея роман «Ньюкомы», несмотря на сделанную вначале оговорку, наиболее близок к жанру семейного романа. Все центральные герои в нем -- родственники, представители одного рода, а остальные или связаны с ними по боковым родственным линиям, или могли бы потенциально породниться с ними (мадам де Флорак, маркиз Фаринтош). Три брата Ньюкомы, семьи которых находятся в центре романа, являются сыновьями одного отца, главные герои романа -- их дети или жены и мужья их детей. Мир «Ньюкомов» вообще насквозь пронизан родственными связями: первый жених Этель лорд Кью является одновременно ее двоюродным братом, Лора и Артур Пенденнисы воспитывались как брат и сестра и т.д.
Интересно, что часть родственных связей тянется к героям «Ньюкомов» из других романов: так, обнаруживается, что бабка Этель леди Кью -- родная сестра лорда Стайна из «Ярмарки тщеславия». Семья Ньюкомов и их родственников вообще как будто подменяет здесь общество, становится моделью общества: кажется, что в мире этого романа нет больше никого, даже коллизии в высшем свете и вообще в «большом мире» происходят исключительно между реальными и потенциальными родственниками. Фактически это семейный роман в неком гротесковом, глобальном смысле: здесь весь мир является семьей, а семья -- миром.
Еще более очевидным свидетельством принадлежности «Ньюкомов» к традиции семейного романа является то, что главная тема этого романа, в конечном счете, именно судьба семьи. «Нькжомы» можно с полным правом назвать «анти-семейным» романом, поскольку Теккерей в нем обнажает распад родственных связей, невозможность создания в современном обществе истинной счастливой семьи. Причем рассказом о прошлом героев Теккерей дает понять, что перед нами уже итог того разложения, которое происходило в начале ХГХ века (в романе есть указание на то, что отец братьев Ньюкомов умирает в 1812 году, «примерно в то время как французскому императору изменила удача в России» [8, 25]). Ранняя гибель матери героя, перевезенной из родной деревни в большой город, уже симптоматична и является знаковой для подобных романов - вспомним трилогию Толстого или роман Диккенса «Дэвид Копперфильд». Герой теряет мать, а вместе с ней - и истинную, крепкую семью, союз любящих друг друга людей.
Второй брак Ньюкома-старшего по расчету показан Теккереем как большая удача и достижение героя: «Все его старые друзья и вообще все порядочные люди, довольные, когда награждались честность, мужество и ум, радовались его счастливой судьбе...» [8, 24]. Однако сюжет романа явно противоречит этому заявлению автора о счастливой судьбе героя, завоевавшего «богатейший приз Сити». Реально произошла подмена ценностей, вследствие которой маленький Томас становится изгоем в семье, не получает наследства и вынужден почти всю жизнь провести на службе в Индии. К этой детской его драме прибавляется впоследствии и юношеская: взаимное их чувство с
Леонорой, сохранявшееся на протяжении всей жизни, из-за несогласия родителей не смогло вылиться в гармоничный семейный союз. Таким образом, в романе «Ньюкомы» уже не молодой герой, а представитель старшего поколения оказывается выходцем из упомянутого «минус-пространства», то есть изначально не имеет истинной семьи.
В начале романа братья Ньюкомы предстают перед нами уже в зрелом возрасте. Теккерей показывает, что они нисколько не связаны теплыми родственными чувствами -- холодность и расчетливость младших Ньюкомов очевидны благодаря тому, что ситуация встречи братьев после долгой разлуки показана читателю глазами искреннего и пылкого полковника Ньюкома. Тонкой метафорой автор подчеркивает, сколь неуместны какие-либо семейные, человеческие чувства и связи в этом мире дельцов: «Полковнику... перечеркнули вексель -- он оказался не обеспечен вкладом братской привязанности, которую надеялась встретить эта простая душа» [8, 79].
Враждуют, хотя и негласно, семьи Ньюкомов, нет понимания между детьми и родителями, даже между лучшими героями романа -- полковником Ньюкомом и его сыном Клайвом. Но наиболее трагичной становится в романе тема создания новых семей. Отношения влюбленных друг в друга кузенов Клайва и Этель Ньюкомов, Этель и двух ее женихов, Клайва и его нелюбимой жены Рози, наконец, несчастливое супружество Барнса Ньюкома и Клары Пуллярд -- все это указывает на пессимизм и скептицизм Теккерея в вопросе о возможности или невозможности существования счастливых семей. Писатель заставляет убедиться, что создание семьи в современном ему обществе стало не более чем сделкой, вопросом соединения капиталов или обретения титулов.
Фактически «Ньюкомы» -- это роман об одной несостоявшейся семье, семье Клайва и Этель Ньюкомов. Центральной для автора здесь становится проблема семейного счастья, или, как сформулировал это современный Теккерею критик Э. Берн-Джонс, «распространенная болезнь нашего времени -- несчастливое супружество» Берн-Джонс Э. Эссе о «Ньюкомах» // Теккерей в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 366..
Эта тема создания семьи, счастливого или несчастливого брака интересовала Толстого не меньше, чем Теккерея. Напрямую он обращается к ней дважды: в раннем романе «Семейное счастие» и в «Анне Карениной». Принимая во внимание ряд биографических фактов, можно уверенно говорить о том, что чтение писателем романа «Ньюкомы» могло напрямую повлиять на создание «Семейного счастия»: именно в 1856 году, когда Толстой внимательно прочитывает роман Теккерея в подлиннике, происходят события, которые большинство исследователей признают основой замысла «Семейного счастия». Это непродолжительный роман Толстого со своей соседкой по имению Валерией Арсеньевой, который принципиально важен для формирования его как писателя. В письмах к Арсеньевой Толстой впервые излагает собственную теорию семейного счастья. А два года спустя, по вполне обоснованному предположению П. Попова, изображает в «Семейном счастии» «картину семейной жизни, как она сложилась бы, если бы осуществился задуманный брак» Попов П. Роман Л.Н. Толстого с В.В. Арсеньевой и повесть «Семейное счастье» // Огонек. М., 1928. № 7. С. 7..
Роман «Анна Каренина» во многом перекликается с «Семейным счастием» - симптоматично, что в письмах 1859 года Толстой условно называет «Семейное счастие» «Анной». Уже знаменитая первая фраза «Анны Карениной» свидетельствует о том, что Толстой продолжает мучительно размышлять о том же вопросе - возможности или невозможности абсолютно счастливого брака: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» (18, 3). И хотя финал «Анны Карениной» свидетельствует о кардинальном изменении взглядов писателя через двадцать лет после создания «Семейного счастия», оба эти романа несут на себе отпечаток чтения «Ньюкомов» Теккерея.
Роман «Семейное счастие», который А.Г. Татьянина называет «чистым образцом жанра» Татьянина А.Г. Проза молодого Толстого и проблема семейного романа: Дис ... канд. филол. наук. М., 2000. С. 113. семейного романа, на самом деле первым показал, в каком направлении шло творческое преобразование этого жанра Толстым. Причем, по всей видимости, преобразование это во многом происходило имманентно, подчас даже вопреки первоначальному замыслу писателя. Так, вполне определенно наметив облик «коллективного героя» - семьи Маши и Сергея Михайловича, которая должна находиться в центре повествования, Толстой очень скоро сосредотачивает композиционное и смысловое движение сюжета на одном лишь образе героини. Более того -- изначальная функция Сергея Михайловича как носителя толстовских убеждений (и вообще незыблемо верного понимания жизни) постепенно утрачивает свое смысловое наполнение: Маша становится более интересна Толстому как герой, ищущий собственный путь, заблуждающийся, но не теряющий нравственных ориентиров в душе и потому способный на духовное возрождение.
Так происходит уже упомянутая «психологизация» семейного романа, когда первостепенным в структуре жанра становится не судьба семьи в целом, а путь героя, его внутреннее развитие: выход из первоначального пространства семейных ценностей, жажда создания собственной семьи, затем разочарование в семейных идеалах и обольщение идеалами светскими, грань морального падения - и, наконец, постепенное возвращение в пространство семьи, которое неизменно связано с материнскими/отцовскими чувствами и сменой городской жизни на деревенскую. В «Семейном счастии» Толстой, таким образом, апробирует большинство ключевых принципов семейного романа в своей собственной авторской редакции.
Такая разработка темы семейного счастья через изменение внутреннего мира героини не могла не привлечь внимание Толстого к одному из главных образов романа Теккерея -- Этель Ньюком. Путь, который проходит эта героиня, во многом перекликается с судьбой Маши. Уже в самом начале романа Теккерей показывает, что на природный характер чуткой, доброй, душевно отзывчивой Этель негативно влияет ее семейное окружение: безвольный отец, недалекая и тщеславная мать, грубый, циничный и трусливый брат Барнс, властная бабка леди Кью. Семья, по сути являющаяся примером «анти-семьи», воспитывает в молодой героине тщеславие, гордыню и своеволие, а главное -- абсолютно не закладывает в ней нравственных ориентиров, семейного идеала, к которому Этель могла бы стремиться, выйдя из-под родительской опеки. Маша в «Семейном счастии» Толстого также не получает необходимых семейных «ориентиров» вследствие ранней смерти родителей - напротив, она живет с единственной мыслью о том, что сиротство не позволяет ей уехать в город, испытать всю прелесть светской жизни: «Я молода, хороша, как все мне говорили, а вот вторую зиму даром, в уединении, убиваю в деревне» (5, 67).
...Подобные документы
Изучение истории создания романа "Воскресенье", его места в творчестве Л.Н. Толстого. Характеристика художественной и идейно-тематической специфики романа в контексте философских течений эпохи. Анализ проблем, затронутых писателем в своем произведении.
курсовая работа [40,4 K], добавлен 22.04.2011Этапы жизненного и идейно-творческого развития великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Правила и программа Толстого. История создания романа "Война и мир", особенности его проблематики. Смысл названия романа, его герои и композиция.
презентация [264,6 K], добавлен 17.01.2013Определение понятия психологизма в литературе. Психологизм в творчестве Л.Н. Толстого. Психологизм в произведениях А.П. Чехова. Особенности творческого метода писателей при изображении внутренних чувств, мыслей и переживаний литературного героя.
курсовая работа [23,6 K], добавлен 04.02.2007Исследование места и значения творчества Л.Н. Толстого в мировоззрении мировых писателей, в эстетической системе, возникающей в произведениях картине мира. Влияние романа-эпопеи "Война и мир" на творчество мировых писателей, своеобразие каждого из них.
дипломная работа [111,2 K], добавлен 02.02.2014Исторические события Англии середины девятнадцатого века, которые существенно повлияли на создание романа "Ярмарка тщеславия" Уильяма Теккерея. Особенности изображения буржуазного общества. Панорама жизни, философская линия и художественный историзм.
реферат [42,2 K], добавлен 22.11.2010Основные этапы творческого пути Татьяны Толстой, отличительные признаки ее художественного стиля. Общая характеристика и описание романа "Кысь", определение его жанра. Освещение проблемы современной интеллигенции в романе, его стилистические особенности.
курсовая работа [33,5 K], добавлен 01.06.2009Список произведений писателя В. Суворова, посвященные событиям Второй мировой войны. Тема романа "Контроль" и его достоинства. Произведения "заволжского цикла" А.Н. Толстого, принесшие ему известность. Сюжетные линии романа "Хождение по мукам".
презентация [903,4 K], добавлен 28.02.2014Эстетические взгляды Льва Николаевича Толстого конца XIX века. Л.Н. Толстой об искусстве. Художественное мастерство Л.Н. Толстого в романе "Воскресенье". Проблема искусства на страницах романа "Воскресение". Путь духовного развития Нехлюдова.
курсовая работа [41,6 K], добавлен 24.01.2007Критическая направленность творчества писателя. Биография Вильяма Мейкписа Теккерея. Журналистская деятельность Теккерея. Сатирическое разоблачение снобизма. Социальная панорама "Ярмарки тщеславия". Нравы английского буржуазно-дворянского общества.
курсовая работа [52,7 K], добавлен 25.05.2014Понятие и классификация метафоры, ее использование в художественном тексте. Особенности ее создания и функционирования в структуре романа Л.Н. Толстого "Воскресение". Метафорическая характеристика персонажей. Изображение объектов мира культуры и природы.
дипломная работа [113,5 K], добавлен 20.03.2011Исследование готического романа как литературного жанра. Творчество Горация Уолпола - основателя "романа тайны и ужаса". Рассмотрение жанровых особенностей готического романа на примере произведения "Замок Отранто" . Отличительные черты произведения.
курсовая работа [45,2 K], добавлен 28.09.2012Лев Николаевич Толстой – великий писатель. Роман-эпопея "Война и мир". Толстой - тонкий психолог. Многогранность и сложность человеческой личности в главных героях романа. Духовная красота героев Толстого.
сочинение [6,1 K], добавлен 22.05.2007Работа Л. Толстого над романом "Война и мир". Сложная структура содержания романа-эпопеи. Основные характеристики языка, семантико-стилистические акценты, каузальная (причинно-следственная) фраза, взаимодействие изобразительно-выразительных средств.
курсовая работа [53,3 K], добавлен 01.05.2009Влияние исторических событий на литературную деятельность. История создания "Ярмарки тщеславия" У. Теккерея как "романа без героя". Анализ снобизма, его сатирическое разоблачение. Понятие "литературный герой" на примере литературных героев Ч. Диккенса.
курсовая работа [94,4 K], добавлен 02.06.2015Художественное своеобразие романа "Анна Каренина". Сюжет и композиция романа. Стилевые особенности романа. Крупнейший социальный роман в истории классической русской и мировой литературы. Роман широкий и свободный.
курсовая работа [38,2 K], добавлен 21.11.2006Идейно-художественные особенности романа Л.Н. Толстого "Анна Каренина". Художественный анализ образа главной героини романа. Социальный и нравственный смысл трагедии Анны Карениной. Стремление писателя показать семейный быт и общественный уклад эпохи.
дипломная работа [76,2 K], добавлен 04.01.2018Реалистичное воспроизведение хода военных действий в творчестве Толстого. Раскрытие темы "человек и война": самоутверждения личности, ее морального испытания, нравственной оценки жизненных идеалов. Традиции автора в произведениях белорусских писателей.
реферат [67,3 K], добавлен 04.07.2014Модернизм как эпоха эстетических экспериментов. Судьба романа в контексте эстетических поисков в XIX - начале XX веков. Символистский роман как реализация экспериментов со стилем. Эстетические и философские взгляды В. Вулф. Поэтика романа "Волны".
дипломная работа [171,6 K], добавлен 20.07.2015"Ярмарка тщеславия" как социальный панорамный роман воспитания. Произведение У. Теккерея "Ярмарка тщеславия" в свете диалога культур, русско-английских литературных связей в 40-60 гг. XIX века. Оценка творчества Теккерея ведущими критиками России.
курсовая работа [40,4 K], добавлен 29.11.2012Историческая тема в творчестве А. Толстого в узком и широком смысле. Усложнение материала в творческом процессе Толстого. Влияние политической системы времени на отображение исторической действительности в прозе и драме. Тема Петра в творчестве писателя.
реферат [27,0 K], добавлен 17.12.2010